Записки о былом. Воспоминания обрусевшего армянина. Часть 15 История
Автор С. Арзуманов.
Это мост через реку (арык) Салар, с которого мы — ребятня, прыгали в воду вниз головой. Сейчас Салар обмелел, в воду с моста уже не прыгнешь. И купающихся детей не видно. Тогда не было и белых многоэтажных домов. (Октябрь 2004 г.).
Хан Баба оказался приятным, скромным, тихим человеком. Он с трудом объяснялся по-русски, регулярно, отойдя в сторонку, совершал намаз, не пил спиртное, не курил, был обходителен со старшими и добр к пацанам. С самого начала стал столоваться с нами, щедро платил за это, приносил дорогие фрукты, которые мы не могли себе позволить купить сами. Он тосковал по своему дому, родным, детям, которых оставил в городке Хачмасе, что рядом с Каспием в Азербайджане. Часто рассказывал о детях, жене и родных, сокрушался, что совершил грех (какой — не открывался), из-за которого вынужден был покинуть родину. Позднее от Овсепа мы узнали, что грех этот — присвоение крупной суммы денег из магазина, которым Хан Баба заведовал. Оська, а только так все звали Овсепа-даже похвастался, что это он подбил наивного Хан Бабу на это дело и «получил свою долю». Оська, ни дня не проработавший честно, много раз побывавший в заключении за воровство и мошенничество (он был «вор в зако¬не»), при мне увещевал Хан Бабу: «Чего ты унываешь? Деньги есть да, веселись да, ходи в ресторан, кушай, пей, с девичками гуляй да! Завтра посадят — все пропадёт да!». Именно так и вёл себя всю жизнь Оська, в последние годы жизни живший под фамилией азербайджанца Аллахвердова, которого убил в лагере ради его документов.
В конце этого переулка справа — наш дом.
А это кусочек («интерьер») нашего двора.
Хан Баба много времени проводил со мной и Володей. Ходил с нами в кино, угощал мороженым, лимонадом или миндальными орешками. Он не владел русской грамотой, поэтому под его дик¬товку я писал двусмысленные, закодированные письма в адрес его приятеля в азербайджанском посёлке Куба, рядом с городком, откуда он скрылся. Чтобы его не обнаружили, в письмах указыва¬лась другая фамилия и обратный адрес. Но запомнился мне Хан Баба больше по другой причине. Наши койки стояли неподалёку. Перед сном, уже лёжа в постели, он всегда что-то долго бормотал. Как-то спросил его об этом. Он разъяснил, что произносит молитву на ночь, которая поможет благополучно дожить до утра. Я заинтересовался её содержанием. Хан Баба пересказал по-русски, как мог. Я сказал, что это интересно. И туг сосед по койке, попросив повторять за ним, стал негромко читать эту молитву.
Я не понимал слов, но было необычно, как-то возвышенно, загадочно и таинственно. Эти чтения вскоре прекратились, и это к добру: негоже было мне, крещённому по-христиански, произносить молитвы мусульман, которые столько несчастья принесли моим родным. Но в моём сознании что-то произошло, можно сказать, с этого времени начался мой путь к Богу. Хотя застряло в памяти — «Бисмилло ир Рахмон ир Рахим», что, кажется, означает «Слава Аллаху, Господу миров».
Судьба Хан Бабы сложилась печально. В первые же дни войны, когда в городе начались облавы, его забрали и послали на фронт. Мы получили от него два треугольных солдатских письма, написанных с его слов товарищем-одно¬полчанином. В последнем письме он сообщал, что он на фронте, готовится идти в бой, надеется на Аллаха, просил нас не забывать его, писать письма, а нас с Володей не озорничать и слушаться старших.
Еще один случай, о котором со стыдом и содроганием помню всю жизнь. Было мне лет 13. Ребята постарше укрылись в уличном палисаднике и вдали от глаз взрослых кололись. Это сейчас слово «колоться» означает приём наркотиков через шприц, а тогда это значило колоть тело тремя связанными иголками, обмакнутыми в чёрную тушь. Рисунки для «наколок» были примитивными: якоря с цепью, корабли, сердце, пронзённое стрелой, мечи или кинжалы со змеями вокруг, орёл, расправивший крылья, и надписи: «Не забуду мать родную» и тому подобное. Я попросил ребят и мне наколоть что-нибудь. Меня прогнали: «Мал ещё!». Подсмотрев, как они это делают, я решил колоться сам, тем более дело это нехитрое. Что колоть, не было вопроса: якорь, меч со змеёй и обязательно сердце, даже два: одно пронзённое стрелой (я же не знал, что это символ любви), а второе сердечко слева на груди, чтобы не перепутать, с какой оно стороны. И, конечно, не отставать же мне, — сверху у основания большого пальца обеих рук засвидетельствовал свои инициалы: вдруг что-то случится — тогда по ним меня определят. Конечно, глупость! Вначале я даже хвастался этими наколками. А потом всю жизнь было стыдно. В двадцатилетием возрасте, буду¬чи в Ливерпуле, я зашел в заведение, которое выполняло цветные художественные тату (сейчас они и у нас появились). Попросил удалить следы былой глупости. Убрать наколки мастер отказался, но предложил скрыть имеющиеся буквы новой наколкой, даже цветной. Разумеется, я отказался. В салоне красоты в Москве на Тверской (тогда ул. Горького) взялись за большие деньги удалить знаки. Закрепили ладонь левой руки к свинцовой пластине и стали миниатюрным электросварочным аппаратом выжигать букву «А». Ужас! Потрескивает аппарат, валит струйка дыма, пахнет горелым мясом! Невыносимая боль! Выдернуть руку нельзя. Выжигать букву «С» на правой руке я категорически отказался, хотя деньги за эту процедуру-пытку уплатил заранее. Пришлось смириться и всю жизнь носить на теле и руке эти позорные знаки.
В 1938 году с Дальнего Востока в Узбекистан переселили корейцев. Это, конечно, не афишировалось. По улицам города ста¬ли ходить корейцы, скупая дворовых собак. Собаки были тогда в каждом дворе, иногда по несколько. Некоторые рады были изба¬виться от лишних и продавали, тем более, что корейцы неплохо платили. Собаки же, завидев корейца и чуя неладное, скуля и поджав хвосты, старались укрыться. Мы тогда ещё не знали, зачем они корейцам. Оказалось, что они едят собак, отчего их и стали называть «корейскими баранами». Узнали и то, что корейцы, прежде чем освежевать собаку, вешают её за задние ноги и избивают палками, чтобы сделать мясо мягким, то есть заранее делают «отбивную» из живой ещё собаки! Мы узнали об этом много позднее, иначе не было бы истории, о которой стыдно вспоминать.
У нас была небольшая лохматая собачка Жучка. Неприхотливая, не требовавшая особого ухода и кормёжки. Своим звонким лаем она предупреждала нас о приближении чужих. Хорошая, умная, злая, честно служила. Но однажды с ней что-то случилось. Жучка стала рычать, когда мы попытались с ней поиграться, и бросалась на нас, если продолжали приставать к ней. Кто-то из ребят сказал, что у Жучки бешенство и она может покусать и заразить нас. Решили её убить. Несколько мальчишек, не откладывая, стали мутузить Жучку, стараясь попасть палками по голове. От озверевших пацанов бедняжка пыталась спрятаться под терраску. Да куда там! Свое мерзкое, зверское дело мы довели до конца, Жучку добили. А ведь она ещё вчера, радостно виляя хвостом, по команде «Апорт» приносила нам брошенные в сторону предметы. Жучку положили в ящик («гроб») и похоронили «по-человечески»: под похоронные звуки, исполняемые губами, закопали в могилу.
После Жучки мы завели Бобика. Это был короткошёрстный рослый красивый чёрно-белый кобель с неизвестной родословной. К нам, детям, Бобик был очень дружелюбен. Зимой после того, как выпадет снег, мы катались на коньках по тротуару, притоптанному пешеходами. Один, крепко держа в руках поводок, ждал, пока другой, показавший предварительно Бобику кусок хлеба, не отбежит метров за сто и не станет кричать:
— Бобик, Бобик, на, на! — Услышав призывный крик, собака срывалась с места и стремглав неслась к заветному куску хлеба, везя за собой отважного и счастливого наездника-конькобежца.
Но Бобику тоже не повезло. Специально для него я сложил собачью будку из кирпича (дерево в Ташкенте-дефицит, а кирпич хапявный, его мы таскали на руках с куч, сваленных у железнодорожного пути). Будка примыкала к забору, за которым бегала соседская Дамка. Длинный поводок надёжно прикрепляпся у входа в будку. Однажды, проснувшись поутру, мы не нашли Бобика на месте. Бедный пёс. гонимый страстью, пеоемахнул чеоез забоо. да и повис на нём — длины поводка не хватило, а соседка-зазноба не помогла. Так из-за любви погибли две наши собаки: позднее мы узнали, что у Жучки было вовсе не бешенство, а течка, когда собаки становятся агрессивными.
После Бобика его просторная будка пустовала. К большому неудовольствию мамы я завёл голубей, для содержания которых эта будка подходила. Теперь в нашем дворе целыми днями пропадали соседские пацаны, вели серьезные разговоры о породах, цене, летных качествах тех или иных пород голубей. Как сейчас говорят, кайф голубевод получает, по-моему, именно от этих глубокомысленных рассуждений, а не только от лицезрения полетов голубиной стаи. Может быть, еще и от наблюдения за жизнью голубиных пар. Интересно смотреть, как голубь-самец ухаживает за голубкой, важно ходит вокруг нее, опустив и волоча крыло по земле, и зазывно, громко воркует. А самка кокетничает, то отпрыгивает в сторону, то сама дразнит своего ухажера. Голубь выберет зернышко получше и бросит голубице: «Это для тебя, милая, склюнь!». Я добросовестно ухаживал за голубями, тщательно чистил голубятню, кормил хорошим зерном, поил чистой водой. Но неприятность меня не обошла: голуби чем-то заболели и околели. Кажется, я даже плакал от обиды. Мама, как могла, утешала. Но в душе, по-моему, была рада, так как голубятники пользовались дурной славой. Да и пользы от голубей не было, одни расходы на корм, а во дворе постоянно свист и ребячий шум-гам.
Пятнадцать лет спустя я работал директором Коломенского рыбозавода. Контора размещалась в двухэтажном здании, где жили и несколько семей рабо¬чих рыбозавода. Кабинет у меня был крошечный, и покурить я выходил во двор, где как раз стояла голубятня Ивана — сына конюха. Шестнадцатилетний парень был страстным голубятником, целыми днями возился с голубями, над чем-то колдовал и очень азартно их гонял. Я как-то проговорился, что в детстве тоже «водил голубей». Он предложил мне в подарок две пары голубей, но я отказал¬ся: как же-я директор и вдруг буду заниматься таким несерьёзным делом. Но всё-таки занялся. Однажды мы с женой поехали в гости в Луховицы к её двою-родной сестре Анне Ахтырсхой. Муж её Слава старше меня лет на десять, — тогда секретарь парткома совхоза «Луховицкий», оказался страстным голубятником. Он показал мне своих голубей и со знакомством навязал парочку «для почина». Это были породистые почтовые голуби с двумя крупными наростами сверху клю¬ва, не то, что там какие-то беспородные «чиграши». Два голубя-не голуби. Сосед по улице, узнав, что у меня появилась парочка, подарил ещё 4 голубя, да конюхов сын добавил. Так второй раз в жизни я стал голубятником. Обо мне пошёл слух по городу. На птичьем базаре (сейчас там авторынок), куда стал ходить по воскресеньям, со мной норовили завести знакомство знатные пожилые голубятники, даже спрашивали совета. Но, конечно, это было лукавство. Просто интересно было пообщаться с новым моподым «коллегой», да еще и директором рыбозавода.
А голубями-то мне заниматься было недосуг. Я с головой ушел в работу. Не хватало времени даже на новый немецкий мото¬цикл «Зимсон» АВО-425. Партия этих знаменитых спортивных четырехтактных мотоциклов поступила в продажу в Московский ЦУМ, и мне, давно мечтавшему о нечто подобном, удалось купить по большому блату. Поэтому «голубятницей» фактически стала тё¬ща, она убирала голубятню, кормила, поила, а я лишь иногда гонял голубей, передоверяя свистеть и махать на крыше длинным шестом с тряпкой соседским мальчишкам, за что стал их непререкаемым авторитетом. Долго продолжаться так не могло, пришлось вернуть голубей прежним хозяевам и вернуться в лоно серьёзных людей, занимающихся важными делами. А если серьёзно, то во второй раз возиться с голубями мне было неинтересно, я был уже равнодушен ко всем этим «кувыркунам», «почтарям», «павлинам», «сорокам» (это — когда у белого голубя чёрный хвост). В молодости я знал Виктора Викторовича Спиранде — начальника УРСа Ташкентской железной дороги, так сказать, министра торговли железной дороги, которая проходила по территории пяти республик. Крупный чиновник, богатый человек. В Ташкенте он был известным и авторитетным голубятником. Голуби были самым большим его увлечением, он любил этих птиц и, как сам мне говорил, без них жизнь для него была неинтересна. Он и я. Мне не интересны голуби, а Виктору Викторовичу без них — не интересна жизнь.
Я опять отвлёкся. Как пелось в песне, «Тучи над городом… и в воздухе пахло грозой». Надвигалась война, власти к ней усиленно готовились. Военкоматы через различные полувоенные организации обучали будущих защитников отечества специальностям пулемётчиков, кавалеристов, шоферов, санитарок. А трудящиеся в добровольно-принудительном порядке «сдавали нормы» «ГТО» (Готов к Труду и Обороне) и «Ворошиловский стрелок». ГТО — это была физкультурная подготовка, надо было бегать, ходить на большие расстояния, прыгнуть с парашютной вышки, метать фанату и диск. А чтобы стать «Ворошиловским стрелком», требовалось знать материальную часть оружия и научиться метко стрелять из винтовки по мишеням, набрав определённую сумму очков. Сдавшие нормы получали удостоверение и нагрудный значок. Особенно привлекательным был значок ГТО: в круге изображён бегун с финишной лентой на груди, а круг с помощью двух цепочек подвешен к пятиконечной звёздочке, которая и вдевалась в одежду. Значок «Ворошиловский стрелок» был не так вычурен, зато престижен: их владельцы умели метко стрелять из малокалиберной и боевой винтовок!
У школьников были свои нормы и значки: БГТО (Будь Готов к Труду и Обороне) иЮВС-Юный Ворошиловский Стрелок. Конечно, и нормы, и сами значки для школьников были «послабже», гранату можно было бросать ближе, бежать мед¬леннее, а стрелять — только из малокалиберной винтовки, и то всего несколько раз. Наверно, удивлю тебя, Читатель: за всё — подготовку, сдачу норм, патроны, значки и удостоверения — не надо было платить ни копейки, всё было бесплатно, только сдавай нормы. Да что там говорить, уже после войны учащиеся технику¬мов и студенты институтов могли бесплатно пройти курс и получить права на вождение мотоциклом или автомобилем. Действовали кружки сольного пения, обучали игре на различных музыкальных инструментах, работали спортивные секции тенниса, баскетбола и так далее. И всё было бесплатно, за всё платили добрые дяди из профсоюзов.
Мне удалось сдать нормы на оба значка, но захотелось большего. В конце нашей улицы находился парк железнодорожников, назывался «КОР» — по имени клуба Октябрьской Революции, выходившего на фасад. Это был центр, где железнодорожники проводили свои мероприятия, в том числе и спортивные. Поэтому здесь, кроме всего, был и стадион с различными спортивными площадками. Стояла даже настоящая парашютная вышка, взоб-раться на которую мечтали все окрестные пацаны. Но доступ на неё разрешался только взрослым, да и то для сдачи норм ГТО. Вход на вышку всегда охранялся сторожем, нашим соседом дядей Васей. Я довольно долго обхаживал его, просил разрешить мне прыгнуть с вышки. Наконец, когда рядом никого не было, на мою беду он разрешил. Взобравшись на верхнюю площадку, я заглянул вниз и… у меня пропало желание прыгать. Но было стыдно: столько времени просил разрешения а, получив его, с позором отказаться? Сосед помог мне просунуть ноги в какие-то две брезентовые петли, через подмышки пристегнул грудь к ремням, встал у тормозного барабана и подбодрил:
— Не боись, всё будет нормально, прыгай, буду тормозить. — Закрыв глаза, я ступил вниз. Но видно, дядя Вася тормозил плохо. Приземлился я неудачно, сильно ушиб ногу. Больше прыгать с вышки не хотелось. Вспомнил бородатый анекдот. Мойша на парашютной вышке. Скомандовали: «Прыгай!». Взглянув вниз, он взмолился: «Об спрыгнуть не может и речи: помогите хоть сойти»!
8-й класс я начал уже в средней школе № 35, она находилась рядом с Госпитальным базаром, куда в большую перемену многие бегали, чтобы купить что-нибудь вкусное. У меня такого желания не возникало. Эта школа запомнилась мне по двум причинам. Во-первых. Военфизрук школы (учитель физкультуры и военного дела) Иван Васильевич Ребров — энергичный и контактный человек из той породы, что вызывают доверие и уважение, увлёк меня заниматься гимнастикой. На его уроках я видел, что он умеет всё и сам показывает учащимся, как надо выполнить то, или иное упражнение. И что удивительно: когда раньше это же самое я пытался при других учителях — у меня не выходило. А он один раз объяснит, покажет, и сразу всё прекрасно получается. Конечно, предложение такого человека заниматься в секции не принять было нельзя. За этот учебный год я окреп, стал сильнее, ловчее, накачал мышцы, прилично выполнял упражнения на гимнастических снарядах не
хуже многих. Во-вторых. Это был предвоенный учебный год. Нам выдали, правда, за наши деньги, военную форму чёрного цвета и назвали «юнармейцами», считалось, что мы добровольно вступили в «Юную Армию». В это время под влиянием Ивана Васильевича* я и принял решение стать командиром Красной Армии.
Довольно много времени уходило у нас на строевую подготовку или, как называли её между собой, «шагистику». Поначалу получалось не в ногу, не все поворачивались кругом «через левое плечо», путались. Тогда командир, шутя, укорял: «Сено-солома!». Оказывается, в старину русские солдаты не знали, где «лево», а где «право», и им привязывали к одному боку солому, а к другому сено, чтобы не путались, и это помогало. Мы же (всё-таки народ образованный) научились выполнять команды без сена и соломы. Тем более, что многие не могли бы отличить одно от другого. Здорово закаляли нас длительными походами за город, причём утяжеляли нашу амуницию кучей булыжников, которые укладывались в рюкзак. Все ребята были горды тем, что готовимся к призыву во взрослую, настоящую Красную Армию, служить в которой в те времена, не как сейчас, стремились все мальчишки.



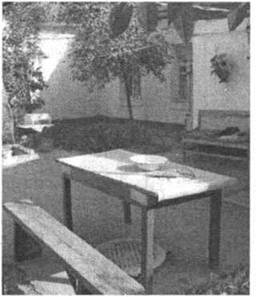
Я, начиная с 1955 года учился в железнодорожной школе №37 на улице Першина, недалеко от парка КОР. В то время Иван Васильевич Ребров уже работал в нашей школе учителем по физвоспитанию. Фронтовик, боевой командир и орденоносец Иван Васильевич Ребров- историк по образованию и прекрасный гимнаст, он так любил физическую культуру, что стал её преподавать. Ученики любили его, как мало кого- ибо он любил их отеческой, истинной любовью.
Сохранилось две фотографии начала 60-х годов, где Иван Васильевич в школьном саду и со школьной баскетбольной командой…
Валентин[Цитировать]
Иван Васильевич Ребров — учитель физкультуры в нашей железнодорожной школе №37, что на улице Першина, рядом с парком КОР. На фотографиях начала 60-х годов, Иван Васильевич в школьном саду и на спортивной площадке с баскетбольной командой нашей школы:
Валентин[Цитировать]
«Иван Васильевич Ребров — учитель физкультуры в нашей железнодорожной школе №37, что на улице Першина, рядом с парком КОР. На фотографиях начала 60-х годов, Иван Васильевич в школьном саду и на спортивной площадке с баскетбольной командой нашей школы.»
Валентин[Цитировать]
Иван Васильевич в школьном саду:
Валентин[Цитировать]
Здравствуйте,
хотела бы спросить автора, помните ли Вы еще что-нибудь о Викторе Викторовиче Спиранде? Я его правнучка, с ним никогда не встречалась, но хотела бы узнать больше.
Спасибо,
Валерия.
Валерия[Цитировать]